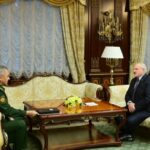Против одного или против всех? Ну что за крайности? – спросит кто-то. Разве жизнь человека не протекает в маленькой группе, среди немногочисленных своих, избранных, и многочисленных чужих – посторонних, но без которых невозможно существовать, ведь именно они продают тебе еду или дают работу, за которую платят деньги, чтобы эту еду купить, или просто заходят поболтать о том о сем?
Как беспомощен человек, когда он один. Как ему легко, когда круг «своих» широк. И все же есть моменты в жизни, когда перед человеком может встать и совсем другой выбор. Его, этот выбор, трудно описать, а иногда и неудобно описывать, потому что правдивое высказывание может стоить человеку дружбы и поддержки многих, а в конечном счете даже превратить человека из радующегося жизни сангвиника и филантропа в мрачного меланхолика и даже мизантропа, а кто же добровольно захочет для себя эдакого перерождения?
Два французских писателя хорошо объяснили этот страх одиночки отдаться на милость победителей. Один – умерший в 1563 году тридцати двух лет от роду Этьен де ла Боэси, а другой – умерший в 1944 году и в свое время очень популярный и в России Ромен Роллан.
Говорю о них обоих вместе потому только, что Ромен Роллан вскоре после первой мировой войны написал роман, сейчас известный под названием «Клерамбо, или История свободомыслящего человека во время войны», а в первом издании называвшийся «Один против всех». В предисловии к книге Роллан написал, что хотел напомнить о «прочитанном наоборот заглавии трактата Ла Боэси «Против одного», не «внушая, однако, мысли о нелепом намерении автора противопоставить одиночку всем людям; нет, это лишь призыв к настоятельно необходимой в настоящую минуту борьбе индивидуального сознания со стадом».
Конечно, «стадо» применительно к целому народу или группе людей – оскорбительное слово, но что делать: хочешь думать, не рядились в друзей человечества.
Полное название короткого трактата Ла Боэси – «Рассуждение о добровольном рабстве, или Против одного». Автор, которому не исполнилось еще и 18 лет, написал его на латинском языке, а позже, возможно, сам перевел на французский. Мутная история с посмертной публикацией заслуживает отдельного разговора, к которому я когда-нибудь непременно вернусь, если не забуду.
То, что заставило Ромена Роллана спустя четыреста лет вступать в диалог с Ла Боэси, ирония, настигающая и нас с вами столетие с лишним спустя после публикации романа Роллана.
Ла Боэси пишет о беспомощности целого сообщества и даже целого народа перед тираном. Человек, живущий в обществе, покорившемся тирану, должен по возможности спешно из этого общества бежать куда глаза глядят. Потому что не только сам тиран правит, способен править, только пробуждая в людях самые низменные свойства, но и само общество, под тем или иным, обычно – вполне благовидным, предлогом согласившееся на тиранию, соучаствует в развращении своих членов.
Ла Боэси подробно описывает и момент порабощения, и привыкание к рабству в следующем поколении, и все еще сохраняющую силу доступность группового избавления от рабства. Люди применяют бездну хитроумия, чтобы дорваться до желаемых благ, говорит Ла Боэси (в переводе Фаины Абрамовны Коган-Бернштейн), «все они желают приобрести то, что может сделать их счастливыми и довольными. И к одному только люди, я не могу понять почему, недостаточно стремятся – к свободе. […] Свободы, ее только, не хотят люди и, как мне кажется, лишь потому, что если бы они действительно пожелали ее, то они ее имели бы; люди как бы только потому отказываются от этого прекрасного приобретения, что оно слишком легко достижимо.
Бедные, несчастные и неразумные народы, народы, закосневшие в своем зле и слепые к своему собственному благу! Вы позволяете отнимать у вас лучшую часть ваших плодов, разорять ваши поля, обкрадывать ваши дома и расхищать ваше дедовское и отцовское достояние. Вы живете так, как будто все это принадлежит не вам и как будто вы почитаете за большое счастье для себя как бы держать в наем свое имущество, даже свои семьи и самые свои жизни.
И все эти бедствия, это разорение и опустошение исходят не от врагов, но от того единственного врага, которого вы сами делаете таким могущественным каким он является, за которого вы бесстрашно идете на войну, ради величия которого вы не отказываетесь жертвовать жизнью.
Между тем тот, кто так властвует над вами, имеет только два глаза, всего две руки, одно тело и ничего такого, чего не имел бы самый простой человек из бесчисленных ваших городов, за исключением лишь того преимущества, которое вы сами ему предоставляете, – истреблять вас.
Откуда взял бы он столько глаз, чтобы следить за вами, если бы вы сами не давали их ему? Где он достал бы столько рук, чтобы наносить вам удары, если бы он не брал их у вас же? Или откуда взялись бы у него ноги, которыми он попирает ваши города, чьи они, если не ваши? Откуда была бы у него власть над вами, если бы вы не давали ее ему? Как он осмелился бы нападать на вас, если бы вы не были заодно с ним? Что он мог бы вам сделать, если бы вы не были укрывателями того разбойника, который грабит вас, сообщниками того убийцы, который убивает вас, если бы вы не были изменниками по отношению к себе самим?
Вы сеете для того, чтобы он уничтожал ваши посевы, вы обставляете и наполняете свои дома для его грабежей, вы растите своих дочерей для удовлетворения его похоти, вы воспитываете ваших сыновей с тем, чтобы он – и это лучшее из того, что он может им сделать – мог вербовать их для своих войн, чтобы он мог вести их на бойню, чтобы он делал их слугами своей алчности и исполнителями своих мщений. Вы надрываетесь в труде, чтобы он мог нежиться в своих удовольствиях и утопать в своих грязных и мерзких наслаждениях. Вы подрываете свои силы, чтобы сделать его сильнее и чтобы он мог еще крепче держать вас в узде».
Ла Боэси пишет о трех родах тиранов – властвующих по выбору, завоевателей и тиранов наследственных:
«Властвующие по выбору тираны обращаются со своими подданными, как если бы это были быки, которых они взялись укротить. Завоеватели смотрят на них, как на свою добычу. Наследственные тираны обращаются со своими подданными, как со своими естественными рабами.
Невероятная вещь, но с того времени, как народ порабощен, он так внезапно и полностью забывает свою свободу, что его трудно разбудить для обратного отвоевания ее. Он служит так охотно и с такой готовностью, как если бы он потерял не свою свободу, а выиграл свое рабство. Правда, вначале люди служат по принуждению и будучи побеждены силой, но следующее поколение, приходящее им на смену, никогда не видавшее свободы и не знающее, что это такое, служит уже без сожаления и добровольно выполняет то, что их предшественники делали только по принуждению».
Ромен Роллан, прочитавший Ла Боэси в юности, решает написать «Клерамбо» как продолжение трактата ренессансного юноши о тирании. Ла Боэси уверяет, что в силах общества «просто» перестать кормить тирана, «просто» перестать подбрасывать поленья человеческих жизней в костер войны, которую непременно должен вести тиран ради сохранения своей власти.
Но вся беда в том, что и сам народ, подвластный тирану, становится субъектом тирании и спешит подавить человеческое в человеке. Апофеозом коллективной тирании как раз и становится война. Роллан пишет (перевод А.А.Франковского):
«Одним из наиболее любопытных действий войны на умы было то, что она вскрыла новые родственные черты между индивидами. Люди, которые до сих пор не имели ни одной общей мысли, вдруг обнаруживали, что они думают одинаково. И обнаружив это сходство, они объединялись. Это был так называемый „Священный союз“. Люди всех партий и всех темпераментов, холерики, флегматики, монархисты, анархисты, клерикалы и безбожники, разом забывали свое повседневное „я“, свои страсти, свои мании и антипатии, сбрасывали свою кожу; и перед вами оказывались новые существа, группировавшиеся самым неожиданным образом, точно металлические опилки вокруг скрытого магнита. Все прежние категории мгновенно исчезли, и никто не удивлялся, оказавшись теперь более близким к вчерашнему незнакомцу, чем к давнишним друзьям. Можно было подумать, что души общаются под землей при помощи невидимых корней, разраставшихся далеко во все стороны, во мраке инстинкта. Область малоизвестная, куда редко отваживается наблюдение. Наша психология ограничивается изучением той части „я“, которая выступает над землей; она самым мелочным образом описывает ее индивидуальные оттенки; но она упускает из виду, что это только верхушка растения; девять десятых его зарыто в земле и связано основанием с другими растениями. Эта глубокая (или низкая) область души в обыкновенное время пребывает в бесчувственном состоянии; сознание вовсе не воспринимает ее. Война же, пробудив подземную жизнь, заставила осознать душевное родство, о котором люди и не подозревали». И – добавим – которого вовсе не хотели.
Разумеется, здесь можно было бы добавить, что следует различать войны агрессивные и освободительные, несправедливые и справедливые. Легко было Ромену Роллану, скажут нам, лелеять свой пацифизм после Первой мировой войны, противиться германофобскому угару, как это делала и русская поэтесса Марина Цветаева в 1939 году. А каково станет французам во время нашествия Германии нацистской? И не потому ли, спросит кто-нибудь ехидным голоском, не сопротивлялись французы немцам в 1940, что начитались Ромена Роллана в 1930-е? Да и к чему подкармливать дезертирскую идеологию в самый разгар праведной битвы добра со злом?
Нет, ни к чему. Вопреки собственному идеализму и пониманию стадности, само желание идти за теми, кого Роллан считал «прогрессивным большинством», «провозвестниками светлого будущего человечества», подтолкнуло его в последние годы жизни в сталинские объятья. С конца 1920-х Ромена Роллана начнут бурно печатать в Советском Союзе, а в 1934 ему, важному европейскому инфлюэнсеру, говорят, даже подберут на Лубянке и вторую жену.
Но это всё – мелкие биографические подробности, не отменяющие человеческий приговор толпе, тому самому стаду приматов, от которого так недалеко отошло человечество. Как получилось, что Роллан, увидевший тиранию и там, где юный Ла Боэси не смог ее распознать, – внутри толпы и даже «в своем кругу», попал под обаяние самых кровавых тиранов своего времени – Ленина и Сталина? Этого нам не расскажут ни его переписка с Горьким и Стефаном Цвейгом, с Рабиндранатом Тагором и Махатмой Ганди, ни даже полная чудес «Римская весна» из его посмертно опубликованных «Воспоминаний».
Только ужасное подозрение недостижимости свободы для художника – ни от толпы поклонников, ни от хитроумного людоеда. Но если не все – художники, а только люди, то разве не прав юный Ла Боэси и разве не ошибся ироничный и гениальный Роллан:
«Если бы человеку стоило чего-нибудь восстановление своей свободы, я бы его не понуждал к этому; хотя для человека нет ничего более дорогого, чем восстановить себя в своем естественном праве и, так сказать, из животного стать человеком. Но я не требую от него такой смелости, хотя, признаюсь, не знаю, как можно предпочитать сомнительную безопасность жалчайшего существования даже слабой надежде на спокойную и счастливую жизнь. Но если для получения свободы ему нужно только захотеть ее, если нужно только простое желание, то неужели найдется такой народ в мире, который считал бы ее купленной чересчур дорогой ценой, раз он может добиться ее одним только желанием? Найдется ли народ, который пожалел бы затратить свою волю ради восстановления блага, которое он должен быть готов выкупить ценой своей собственной крови? Ибо, лишившись свободы, все честные люди должны считать свою жизнь невыносимой и смерть спасительной. Но от всех этих бедствий, которых не стали бы терпеть и переносить даже животные, вы можете освободиться, если вы не то что попытаетесь избавиться, но лишь пожелаете это сделать. Решитесь не служить ему более – и вот вы уже свободны. Я не требую от вас, чтобы вы бились с ним, нападали на него, перестаньте только поддерживать его, и вы увидите, как он, подобно колоссу, из-под которого вынули основание, рухнет под собственной тяжестью и разобьется вдребезги».
Источник: Гасан Гусейнов, RFI.