Мрачные события 70-летней давности сегодня оживают в кремлевской теории заговора, где место врачей-убийц заняли блогеры и геи, действующие все по той же заокеанской указке, а украинские нацисты разрабатывают в своих биолабораториях вирусы, которыми будут заражать российских граждан при помощи перелетных птиц.
Первые минуты пребывания на советской земле запомнились Чарльзу (Чипу) Болену резкой смесью запахов махорки, мокрой овчины, хлорки, хозяйственного мыла и опилок, которыми был посыпан перрон. Это было 7 марта 1934 года. Вместе со свитой новоназначенного посла США в СССР Уильяма Буллита Болен вышел из вагона на станции Негорелое – пограничном пункте, где предстояло сменить колею с европейской на русскую. Прошли годы, началась и кончилась война и началась другая, холодная, но аромат махорки был неистребим. Когда в мае 1952 года в Москву прибыл новый посол Джордж Кеннан, махорочный дым шибанул ему в нос вместе с запахом дешевого советского парфюма.
Среди американских дипломатов не было людей, подготовленных к работе в Москве лучше, чем Кеннан и Болен. Но волей обстоятельств в судьбоносные первые месяцы 1953 года ни того, ни другого в Москве не оказалось. Кеннан известен как автор “длинной телеграммы”, положившей начало доктрине сдерживания. Однако он еще в сентябре 1944 года, будучи вторым секретарем посольства, писал в Вашингтон не без литературного блеска:

Сейчас, осенью 1944 года, Кремль, привержен конкретной цели – стать господствующей державой в Восточной и Центральной Европе. В то же время он находится в ситуации, когда его прошлые обещания и мнение мировой общественности налагают на него обязательство придерживаться туманной программы, которую западные государственные деятели, предпочитающие использовать угодные для избирателей искусные выражения, называют сотрудничеством.
Первая из этих программ подразумевает, что Советский Союз будет брать. Вторая программа подразумевает, что он будет давать. Никто не может помешать России брать, если она вознамерилась сделать это. Никто не может заставить Россию отдавать что-либо другим, если она не намерена этого делать. В этих обстоятельствах пусть беспокоятся другие. Кремлёвские куранты, ни дня не молчавшие с тех неспокойных времен, когда по приказу Ленина они были отремонтированы и вновь приведены в движение, сейчас возвещают о наступлении ночи своим боем, выражающим уверенность в себе и в будущем. Ничто не тревожит покой тех, кто крепко спит в стенах Кремля.
Переводчиком русского издания последняя фраза переведена с сохранением двусмысленности оригинала: из него непонятно, идет ли речь об усопших революционерах, захороненных в кремлевской стене, или о Сталине и его клевретах, почивающих за кремлевскими стенами.
Взгляды Кеннана не были секретом для Москвы. Соглашаясь принять его в качестве посла, она лишь ждала удобного повода распрощаться с ним. Кеннан не прослужил послом и пяти месяцев. Изоляция, в которой оказалось посольство и о которой он писал в личном письме президенту Трумэну, настолько тяготила его, что в сентябре он в Берлине сказал журналистам, что условия работы в Москве ничем не отличаются от интернирования его нацистами в 1941 году после объявления США войны Германии. Эта фраза взбесила Сталина. Кеннан был объявлен нежелательным лицом. Ему даже не позволили вернуться в Москву за семьей.
Временным поверенным стал Элим О`Шонесси, чье имя сегодня чаще упоминается в светских, нежели в дипломатических хрониках того времени. Вскоре его сменил прибывший из Индонезии Джейкоб Бим. Оба они были прекрасно образованны, но в российских делах понимали мало.
Между тем Вашингтон готовился к смене президента. Выборы 1952 года легко выиграл у демократа Эдлая Стивенсона Дуайт Эйзенхауэр. Впервые за 20 лет в Белый дом пришел республиканец. “Великая старая партия” контролировала к тому же обе палаты Конгресса. У нее были все основания заняться пересмотром внешней политики.
Гнетущая атмосфера советской столицы, о которой в один голос пишут западные мемуаристы, в этот период еще больше сгустилась. Следствие по делу Еврейского антифашистского комитета шло в глубокой тайне, но трудно было не заметить беспричинного исчезновения из публичного пространства его деятелей. Бродили смутные слухи о разоблачении вредителей и шпионов на автозаводе имени Сталина, в московском метрополитене.

17 октября 1950 года студент исторического факультета МГУ Яков Этингер проснулся с отвратительным чувством. Ему приснилось, будто он выплюнул с кровью все зубы. В то же утро на углу Петровки и Кузнецкого моста к нему обратился представившийся сотрудником угрозыска человек, причем назвал его чужой фамилией Данилов. Не успел Яков ответить, что он не Данилов, как его подхватили под руки и затолкали в машину. Его привезли на Лубянку и уже там объявили, что он арестован. Начались допросы. Следователи цитировали частные разговоры, имевшие место в квартире Этингеров, полученные с помощью прослушки. Через месяц после ареста Якова были арестованы его приемные родители – кардиолог Яков Гиляриевич Этингер и терапевт Ревекка Викторова, но Яков об этом не знал. Он вспоминает:
Несколько раз в допросах принимал участие тогда подполковник М. Рюмин, в то время заместитель начальника следственной части по особо важным делам МГБ… Периодически во время допросов он врывался в кабинет следователя, осыпал меня площадной бранью и угрожал всяческими карами. Рюмин никогда не садился в кресло, а непрерывно бегал с криками по кабинету. Он кричал: “…Мы вас, евреев, всех передушим. Мы покажем, что мы можем сделать с вами, жидовская морда”.
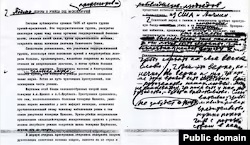
Именно с ареста Этингера-старшего началось дело врачей.
17 мая 1951 года Якову объявили приговор: 10 лет лагерей по статье 58-10 (антисоветская пропаганда и агитация). Его отправили по этапу на Колыму, но в августе его вернули из ванинской пересылки в Москву и стали допрашивать о “фактах вредительского лечения” вождей. Врачи, которым вменяли вредительство, были в то время еще на свободе. Не добившись нужных показаний, Якова отправили в Вятлаг. Там, будучи дневальным по бараку, он услышал по радио сообщение ТАСС об аресте группы врачей-вредителей, в числе которых был и его приемный отец.
Илья Эренбург, прочитав сообщение в врачах-убийцах, тотчас собрался и поехал в Москву. О происходившем в тот день он записал в дневнике.
Все повторяли, что в больницах ад, многие больные смотрят на врачей, как на коварных злодеев, отказываются принимать лекарства… Женщина врач говорила: “Вчера пришлось весь день глотать пилюли, порошки, десять лекарств от десяти болезней – больные боялись, что я “заговорщица”…” На Тишинском рынке подвыпивший горлодер кричал: “Евреи хотели отравить Сталина!..”
Теория заговора овладела умами великого множества людей. По городам и весям ползли зловещие слухи, сравнимые с обвинениями врачей-басурман времен чумных и холерных бунтов: евреи-врачи убивают русских детей при помощи прививок и даже в утробе матери, они отравили даже вату и способны “привить гипертонию”.
Для Джейкоба Бима сообщение о врачах-убийцах было громом среди ясного неба. Он отправил в Вашингтон депешу, которая свидетельствует о его полной растерянности:

Нельзя, конечно, полностью исключить, что действительно имело место какое-то заговорщическое движение. Можно также утверждать, что “заговор” – это полная выдумка правящей группы, хладнокровно созданная для достижения какой-то политической цели. Во всяком случае, это подтверждает мнение многих, что советская правящая группа живет в атмосфере постоянного психотического недоверия и подозрительности. Хотя было бы неразумно предполагать, что они верят обвинениям в том виде, в каком они предъявлены, представляется весьма вероятным, что эти обвинения отражают господствующий в правящих кругах страх перед неконтролируемыми мыслями и дискуссиями.
Более неудачный для Вашингтона момент для обнародования дела врачей трудно было найти. Историк Борис Клейн в свое время попытался показать реакцию Вашингтона на дело врачей, но сделал он это без учета всех обстоятельств политической обстановки в США и не использовал всего объема документов и источников, которые, быть может, и не были доступны ему тогда.
Генерал Дуайт Эйзенхауэр, чей статус в США был равен статусу маршала Жукова в СССР, построил свою президентскую кампанию на лозунге пересмотра внешнеполитического наследия Франклина Рузвельта. Это был самый сильный козырь его соперника Эдлая Стивенсона, и его следовало побить. Республиканцы твердили о необходимости пересмотра ялтинских соглашений. В предвыборной платформе партии, внешнеполитический раздел которой написал Джон Фостер Даллес, они обещали “отречься от всех обязательств, содержащихся в секретных договоренностях подобных ялтинскому, которые способствовали установлению коммунистического рабства”, и положить конец “негативной, бесплодной и аморальной политике “сдерживания”, которая оставляет огромные массы людей во власти деспотизма и безбожного терроризма”.
Эйзенхауэр начал свою кампанию в августе 1952 года. Выступая на съезде Американского легиона в Нью-Йорке, он заявил: США никогда не признают советскую оккупацию Восточной Европы и будут помогать порабощенным народам до тех пор, пока они не сбросят “ярмо коммунистической деспотии”. Однако эта позиция таила в себе и риск новой войны, на что настойчиво указывали демократы. Поэтому за две недели до выборов кандидат республиканцев приглушил антикоммунистическую риторику и сделал акцент на обещании достойно завершить войну в Корее.
Дело врачей грянуло, когда президентом еще оставался Гарри Трумэн, но на его последней пресс-конференции 15 января эта тема никого из журналистов не интересовала. Трумена спрашивали, в какой шляпе он намерен прибыть на инаугурацию своего преемника (Эйзенхауэр поломал традицию и вместо цилиндра явился на церемонию в мягкой фетровой шляпе “хомбург”) и какое решение он принял по делу Розенбергов (атомным шпионам Юлиусу и Этель Розенберг был вынесен смертный приговор, и они обратились к президенту с прошением о помиловании). На первый вопрос Трумен ответил, что не собирается вступать в “шляпную дискуссию”, на второй – что дело Розенбергов к нему еще не поступало. На фоне вестей из Москвы дело могло приобрести нежелательную антисемитскую окраску.
Президент Эйзенхауэр отказал в помиловании 11 февраля. 17 февраля он дал свою первую пресс-конференцию. Его спросили, не нашел ли он каких-либо секретных соглашений с Москвой помимо тех, что были подписаны в Ялте. Президент ответил отрицательно, подчеркнув при этом, что ялтинские соглашения никогда не направлялись на ратификацию в Сенат, а потому и не являются действующими международными договорами. Он тут же оговорился: “Я, собственно, говорю о тех и только о тех пунктах соглашений, которые представляются способствующими порабощению народов или, если угодно, могут подразумевать это”. Журналисты продолжили атаку: известно ли президенту, что “многие члены Конгресса от обеих партий считают, что эти соглашения никогда не были обязывающими, поскольку не были представлены Сенату”? Президент ответил довольно путаным рассуждением, а когда та же журналистка спросила его: “Знаете ли вы, сэр, что многие члены Конгресса также считают, что президент не имел права втравливать нас в войну в Корее и посылать войска в Европу без консультаций с Конгрессом?”, раздраженно перебил ее: “Все это произошло задолго до того, как я занял этот пост. Сейчас у меня сложное время, я занят поиском собственных путей и решением собственных проблем. Я не собираюсь возвращаться к прошлому и пытаться решить проблемы, которые были тогда у кого-то другого”. Он повторил это и на следующей встрече с журналистами: “Я не собираюсь идти назад и ворошить пепел умершего прошлого”.
20 февраля Эйзенхауэр направил Конгрессу проект резолюции о порабощенных народах. Он обвинял Москву в нарушении “подлинной цели” ялтинских соглашений. Соглашения, утверждал президент, “были извращены с целью порабощения свободных народов”. Республиканцы во главе с лидером сенатского большинства Робертом Альфонсо Тафтом оказались в положении оппозиции по отношению к президенту – ведь они стремились не интерпретировать, а денонсировать Ялту. Тафт внес проект поправки, гласящей, что принятие резолюции не означает легализацию соглашений.
Все это время Госдепартамент и Совет национальной безопасности США усиленно пытались понять, что происходит за кремлевскими стенами и как Вашингтон должен реагировать на это. Главным при этом был вопрос не о деле врачей, а о возможной кончине Сталина. От внимания посольства в Москве не ускользнуло резкое сокращение активности вождя в феврале.
Последнее публичное выступление Сталина датируется 14 октября 1952 года. Это была речь на XIX съезде партии. Весьма краткая, произнесенная в самом конце съезда, она была посвящена “братским партиям”, чья победа в странах капитала, дескать, не за горами. Речь снята на кинопленку. В этом выступлении не заметно признаков тяжелого заболевания. Вождь говорит отчетливо, стоит на трибуне без видимого напряжения. Правда, и продолжалось это выступление всего 12 минут.
Разработка темы “престолонаследия” началась в Вашингтоне именно после съезда. 1 ноября 1952 года Совет по стратегическому планированию информационно-психологических операций (Psychological Strategy Board; этот орган был создан в апреле 1951 года в включал в себя заместителей госсекретаря и министра обороны и директора ЦРУ) одобрил документ, в котором описывались вероятные последствия смерти Сталина. “Это событие, – писали авторы бумаги, – может вызвать раскол в высшем руководстве. Оно может также привести к кристаллизации нынешнего недовольства различных групп советского населения, которые чувствуют себя ущемленными”. И далее:
Поскольку следует исходить из презумпции, что соперничество в высшем руководстве уже существует, а контроль Сталина ослабевает по мере его старения, смерть одного из главных претендентов на престол (Андрея Жданова в августе 1948 года. – В. А.) могла нарушить хрупкое равновесие и ускорить кризис.
Наиболее вероятным преемником теперь считался Георгий Маленков. Вашингтонские аналитики разрабатывали сценарий “Завещание Сталина“. Они полагали, что “заговор врачей… может отражать политические или властные проблемы в высших эшелонах советской иерархии, не обязательно связанные с переходом власти. Предположительно они могут быть следствием решений, приводящих, как это принято в сталинской системе, к дискредитации и ликвидации проигравшей фракции и ее сторонников”.
26 декабря в “Правде” появились “Ответы тов. Сталина на вопросы дипломатического корреспондента “Нью-Йорк таймс” Джеймса Рестона, полученные 21 декабря”. В одном из ответов Сталин заявил, что не прочь встретиться с Эйзенхауэром.
Вопрос. Приветствовали ли бы Вы дипломатические переговоры с представителями новой администрации Эйзенхауэра для рассмотрения возможности встречи между Вами и генералом Эйзенхауэром по вопросу об ослаблении международного напряжения?
Ответ. Я отношусь к такому предложению положительно.
12 января вождь посетил Большой театр. 21 января глава восточноевропейского отдела Госдепа Фрэнсис Стивенс направил в Совет по информационно-психологическим операциям записку с предложениями, как следует действовать официальным американским СМИ сразу после смерти Сталина. Признавая, что конкретную ситуацию в мире и стране в момент смерти вождя предугадать невозможно, Стивенс дает лишь рекомендации общего порядка.
Реакцию советских людей на смерть Сталина предсказать непросто. Определенно найдутся те, кто почувствует, что с русского народа снято тяжкое ярмо и что уход Сталина из жизни открывает дорогу благотворным переменам. Имеющиеся данные, однако, указывают и на то, что огромная масса населения была в достаточной мере одурманена годами публичного преклонения перед Сталиным и достаточно впечатлена ростом советской мощи под его руководством, чтобы чувство искреннего сожаления по поводу его кончины получило широкое распространение. Важно, чтобы в нашем стремлении использовать ситуацию в свою пользу наши средства информации не делали ничего, что могло бы нанести ущерб этому чувству, если оно действительно материализуется. Нет также никаких веских оснований полагать, что органы безопасности будут не в силах справиться с ситуацией. Поэтому следует также избегать преждевременных призывов к насилию или сопротивлению.
Далее следуют подробные рассуждения, в какой форме правительству США выражать соболезнования и выражать ли их вообще.

В середине января решил напомнить о себе директор управления политического планирования Госдепа Пол Нитце, автор знаменитого ныне меморандума NSC-68, заменившего доктрину сдерживания доктриной отбрасывания коммунизма посредством наращивания военной мощи и агрессивного противостояния коммунистической экспансии по всему миру. Трумен, напуганный апокалиптическими прогнозами Нитце, нехотя утвердил ее, но Эйзенхауэр стремился сократить военные расходы и сбалансировать бюджет. Поэтому теперь Нитце пугал нового президента советской ядерной угрозой:
Способность Советского Союза нанести ущерб Соединенным Штатам уже должна измеряться многими миллионами жертв и многими миллиардами материального ущерба, и она быстро увеличивается.
7 февраля Сталин принял посла Аргентины Леопольдо Браво. Спустя 10 дней, 17 февраля, – посла Индии Кумара Падму Шивашанкара Менона в сопровождении переводчика (второго секретаря посольства) Трилоки Натх Кауля. Джейкоб Бим побеседовал с обоими послами и изложил содержание этих бесед в своей депеше. Аргентинец заверил его в крепком здоровье вождя. Индиец рассказал, что не добивался аудиенции – ему предложил встретиться со Сталиным советский МИД. На Менона тоже произвел впечатление здоровый вид Сталина.
Впоследствии он детально описал свидание. По его словам, вождь встретил его фразой: “Господин посол, я к вашим услугам”, как будто не он, а посол был инициатором встречи. Половина из отведенного послу времени (полчаса) ушло на обсуждение вопросов языкознания. Среди прочего Сталин завел речь о Формозе и американской экспансии в регионе и сказал по этому поводу: “Крестьянин – человек очень простой, но очень мудрый. Когда на него нападает волк, крестьянин не читает ему проповедей, а пытается убить его. И волк знает это и ведет себя соответственно”. Менон опустил глаза на блокнот, в котором чертил карандашом Сталин, и увидел, что страница покрыта изображениями волков в разных позах.
Менона обычно называют последним иностранцем, видевшим Сталина живым. Но в тот же день, уже после Менона, его посетил еще один его соотечественник – лауреат Сталинской премии мира, председатель Всеиндийского совета мира Сайфуддин Китчлу. Ему вождь уделил около 70 минут. Китчлу рассказал потом Менону, а тот передал Биму: “Сталин выразил свою личную симпатию к президенту Эйзенхауэру, однако он уверен, что окружающие его капиталисты связывают ему руки”.
На пресс-конференции 25 февраля Эйзенхауэра спросили, ссылаясь на декабрьское интервью Сталина, готов ли он встретиться с советским лидером. Президент ответил фразой, которая вошла в анналы: ” Я встречусь с кем угодно, где угодно, если это даст хоть малейший шанс сделать добро в том понимании, какое американский народ ждет от главы исполнительной власти”.
Некоторые мемуаристы убеждены, что Эйзенхауэр выступил по радио в защиту обвиняемых медиков. Об этом пишет, например, Яков Рапопорт – патологоанатом, позднее сам арестованный по делу врачей: “По радио передавали выступление тогдашнего президента США Д. Эйзенхауэра… Он заявил в категорических выражениях, что поручил со всей тщательностью выяснить, была ли какая-нибудь связь у арестованных советских ученых-медиков с американскими разведывательными органами, и заверил словом президента, что даже имена этих “американских шпионов” этим органам не были известны и никаких поручений от этих органов они никогда не получали”. То же самое сообщает Яков Этингер: “Эйзенхауэр выступил по национальному радио и со всей решительностью заявил, что “американские спецслужбы никогда не вступали в контакт с арестованными профессорами и никаких указаний или поручений им не давали”. Этингер в это время сидел в тюрьме и не мог слышать ни американского радио, ни даже слухов о такой передаче. В том, что это были лишь слухи, сомневаться не приходится. Эйзенхауэр таких заявлений не делал.
В конце февраля он столкнулся с новой проблемой – неожиданным противодействием Сената при утверждении ключевых назначений в Госдепартамент. Сенатор Джозеф Маккарти сделал Госдеп своей главной мишенью. Потрясая списком 205 сотрудников Госдепартамента, он утверждал, что все они – тайные коммунисты. Значилось в списке и имя Чипа Болена, которого президент назначил послом в Москве. Генерал знал его по Парижу, где находился его штаб командующего союзными силами в Европе, а Болен занимал пост министра-посланника США. Они вместе играли в гольф. Генерал говорил о Болене, что это “один из самых толковых дипломатов из тех, кого я встречал”.
Но вожди Республиканской партии называли Болена “архитектором катастрофы”, а Крымскую конференцию Большой тройки – “предательством в Ялте”. Эйзенхауэр не мог и не хотел ссориться с Маккарти, одним из самых влиятельных республиканцев, поддержавшим его на выборах. Он ни разу не высказал публично своего отношения к “охоте на ведьм”, никогда не произносил имени Маккарти в негативном контексте, а в частном письме, объясняя свою позицию, написал, используя старую идиому: “Я просто не буду соревноваться с этим скунсом в мочеиспускании”.

Получив агреман Москвы, Эйзенхауэр 26 февраля направил на утверждение в Сенат назначение Болена. Первое публичное слушание прошло 2 марта. Маккарти назвал выбор президента “серьезной ошибкой”. Госсекретарь Даллес рекомендовал президенту отозвать назначение Болена. По Вашингтону бродили слухи, что ФБР нарыло убийственный компромат на него. Но Эйзенхауэр уперся. Более того: Даллес от имени президента взял с Болена обещание, что он не возьмет самоотвод, “что бы ни случилось”.
Болен был в Ялте всего лишь переводчиком Рузвельта, но ему пришлось держать ответ за заключенные там соглашения. В своих детальных ответах на вопросы законодателей он стоял на своем: шла война, и Ялта была политической необходимостью. Договоренности провалились не потому, что были плохи, а потому, что Москва не исполнила свои обязательства. Ему показалось, что первый день слушаний прошел вполне удачно для него, и не предвидел дальнейших осложнений. Однако это было только начало.
4 марта грянуло сообщение о тяжелой болезни Сталина. Временный поверенный Бим, собравшись с мыслями, сел писать телеграмму в Вашингтон. Он сразу предположил, что сообщение опубликовано с задержкой, и выдвинул две гипотезы:
(1) Смерть Сталина приближается быстро (врач посольства на основании опубликованных медицинских данных считает вероятным, что Сталин долго не проживет), поэтому возникла необходимость подготовить людей к известиям, которые нельзя скрывать до бесконечности и которые, возможно, уже начали просачиваться в этой охваченной слухами стране; (2) борьба за положение в высшем руководстве уже началась, и один или несколько человек или групп после публикации новости чувствуют себя в большей безопасности (нельзя полностью исключать и того, что Сталин, возможно, уже мертв).
…Возможности посольства собрать реакцию советских граждан крайне ограничены. Тем не менее все наблюдения как будто подтверждают, что общественное волнение или смятение по этому поводу невелико. Улицы центра Москвы выглядят точно так же, как и в любой другой день… Людей на Центральном рынке, казалось, волновали только их обычные проблемы с покупками… Единственным видимым отклонением от нормы были более длинные очереди у газетных киосков. Однако люди в этих очередях и перед стендами, где расклеены газеты, проявляли либо нежелание, либо незаинтересованность в обсуждении происходящего. Среди советских служащих посольства реакция варьировала от слез двух-трех женщин до безразличия других.
Последний момент, достойный упоминания. Если этот удар приближался в течение некоторого времени, кажется вероятным, что его развитие повлияло на и без того ненормально подозрительный ум Сталина и, возможно, послужило основной причиной предполагаемого заговора врачей против жизни высших советских руководителей.
Ни у ЦРУ, ни у Бима не было серьезных источников в Кремле или Лечебно-санитарном управлении Кремля, если только не считать и впрямь шпионами арестованных врачей. Но он в своих догадках был очень близок к истине. Схватка пауков в банке уже началась, а одной из причин дела врачей, как утверждают современные исследователи, стала маниакальная подозрительность вождя и его недоверие к медицине. Прав он был и по поводу задержки – удар хватил Сталина еще 1 марта.
Где-то в конце февраля или первых числах марта Якова Раппопорта, арестованного по делу врачей 3 февраля, вызвали на очередной допрос, но речь повели странную.
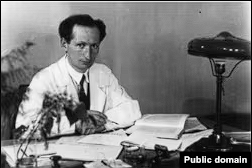
Следователь обратился ко мне с заявлением, что сегодня я нужен как эксперт, а не как подследственный, и предложил ответить на ряд следующих вопросов: “Что такое Чейн-Стоксовское дыхание?” Я ответил, что это одна из форм так называемого периодического дыхания, и разъяснил его сущность. “Когда встречается такое дыхание?” Я ответил, что физиологически оно бывает у младенцев, а у взрослых возникает при тяжелых поражениях центров дыхания в головном мозгу – при опухолях мозга, кровоизлияниях в мозг, тяжелых токсических поражениях мозга, например при уремии, тяжелом артериосклерозе мозга. “Как повлиять на Чейн-Стоксовское дыхание, чтобы ликвидировать его?” Я ответил, что влиять надо не на самое дыхание, а на причины, его вызвавшие. “Может ли человек с Чейн-Стоксовским дыханием выздороветь?” Я ответил, что это очень грозный, часто агональный, симптом и что при наличии его в большинстве случаев необходимо умереть (я так и сказал: “необходимо!”).
“Чейн-Стоксово дыхание” – это из второго бюллетеня о состоянии здоровья Сталина на 2 часа утра 5 марта. Следователь записал все, что сказал ему Рапопорт, и спросил, кого из специалистов он мог бы рекомендовать для лечения больного с таким диагнозом. И получил исчерпывающий ответ.
Я ответил: “Отличный врач Виноградов, но он – у вас. Превосходный врач Вовси, он тоже у вас. Большой врачебный опыт у Василенко, но он у вас. Прекрасный диагност Этингер, он у вас. Серьезные врачи оба Коганы, но один из них давно умер, а другой у вас. Если нужен невропатолог, то самым крупным клиницистом-невропатологом я считаю Гринштейна, но он у вас. В качестве отоларинголога я рекомендовал бы Преображенского или Фельдмана, но они оба у вас”.
Неужели следователь действительно пытался получить консультацию таким путем? Его ли это частная инициатива или приказ сверху?
В Вашингтоне отдел разведки и исследований Госдепа подготовил записку для госсекретаря Даллеса и его замов. Авторы документа считали смерть Сталина практически свершившимся фактом. Они, однако, считали маловероятными кардинальные перемены режима.
Советская система такова, что решение этой проблемы обязательно будет сопряжено с большими трудностями и почти наверняка вызовет интриги внутри руководства. Однако нельзя предполагать, что эти интриги приведут к какому-либо серьезному ослаблению режима или к существенным изменениям в советской внешней или внутренней политике. На самом деле необходимость продемонстрировать миру плавный переход к новому руководству требует продолжения прежней политики.

В тот же день, 4 марта, президент рано утром созвал Совет национальной безопасности с участием руководителей федеральных ведомств. Предметом обсуждения был проект текста заявления Эйзенхауэра по случаю болезни Сталина и сценарии ближайшего будущего. Насколько можно судить по сухому языку протокола, на заседании царило мрачное настроение, оптимизма по поводу грядущей смены власти в Кремле никто не выражал. Даллес сказал, что лучше уж не публиковать никакого заявления, чем опубликовать то, что написал президент. Присутствующие фраза за фразой проанализировали и отредактировали текст. Поскольку советское посольство назначило на 11 утра пресс-конференцию, было решено опубликовать заявление за несколько минут до этого часа.
Отредактированный текст гласил:
В этот исторический момент, когда множество русских тревожатся в связи с недугом советского правителя, мысли Америки обращены ко всем людям СССР – мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам – в деревнях, городах, на фермах и заводах их родины. Они дети одного Бога, Отца всех народов на свете. И, как и все народы, миллионы русских разделяют наше стремление к миру. Независимо от личности членов правительства мы, американцы, по-прежнему молимся о том, чтобы Всемогущий присматривал за жителями этой огромной страны и давал им, по Своей мудрости, возможность жить в мире и дружбе.
Надо признать, что текст составлен мастерски. В нем отсутствует даже имя вождя, а между тем придраться не к чему.
Сутки прошли в напряженном ожидании. Наконец 6 марта в 6 часов утра Всесоюзное радио объявило о кончине вождя. Бим докладывал в Вашингтон, что ничего особенного в Москве не происходит.
Общее впечатление на данный момент состоит в удивительном отсутствии реакции на сегодняшнее утреннее известие о смерти Сталина и контрастирует с реакцией Америки и Великобритании на смерть президента Рузвельта и короля Георга.
Позднее в тот же день он сообщил о милицейских кордонах в центре города и очереди к Колонному залу, где будет выставлено для прощания тело вождя.
Президент 6 марта провел заседание кабинета, на котором объявил, что его администрация оказалась не готова к смерти Сталина.
7 марта Болен, вероятно, испытывая невероятную досаду от того, что ему не довелось быть в эти дни в Москве, написал записку, в которой призывал к сугубой осторожности: любая попытка американского вмешательства повлечет за собой лишь консолидацию режима.
Джейкоб Бим считал, что ему повезло, – во всяком случае, он писал это в своих воспоминаниях о похоронах Сталина. Он прибыл в Москву в середине декабря с инструкциями “только наблюдать, сообщать и пуще всего избегать инцидентов”. Вашингтон не ответил на изгнание Кеннана ни симметрично, ни асимметрично, и Биму казалось, что Москва не хочет дальнейшего осложнения в отношениях. Министр Вышинский Бима не принимал, и он общался с его первым замом Яковом Маликом, который, случалось, вызывал его в МИД среди ночи. Но однажды посол с советником вошли в лифт и столкнулись там нос к носу с Вышинским и его советником. Министр отреагировал на случайную встречу, как пишет Бим, “молчаливым замешательством”. В довершение казуса лифт застрял между этажами. Бим и советник обменялись несколькими фразами по-английски и по-русски о том, какое ветхое здание у МИДа. Вышинский покраснел от злости, снял трубку аварийного телефона и потребовал немедленно устранить неисправность.
О деле врачей Бим узнал от библиотекаря посольства и своего учителя русского языка Софи. Урок был назначен на восемь утра 13 января. Софи начала его с того, что положила перед своим учеником свежий номер “Правды” и перевела сообщение ТАСС. Первый бюллетень о болезни Сталина был передан по радио 3 марта в 7 часов утра. Врачи американского и британского посольств, посовещавшись, пришли к выводу, что, если заключение не фальсифицировано, вождь дышит на ладан. Бим продолжает:
Администрация Эйзенхауэра была не слишком щедра на соболезнования. Я был назначен специальным послом на церемонии погребения, но получил указание не приспускать флаг посольства в знак траура – согласно нашим правилам, это следовало делать только в случае кончины президента или главы правительства страны пребывания, а Сталин им не был. (Вечером 5 марта еще живой вождь был лишен постов председателя Совета министров и секретаря ЦК, однако эта информация оставалась секретной до 7 марта, поэтому в соболезновании президента, которое Бим должен был передать советскому руководству, Сталин назван генералиссимусом и премьером. – В. А.) Глядя на море приспущенных флагов на площади, по которой должна была пройти траурная процессия (посольство США в то время находилось в здании на Моховой, 13 и выходило окнами на Манежную площадь. – В. А.), я решился игнорировать инструкции – береженого Бог бережет.
3 апреля Якова Львовича Рапопорта вывели из камеры Лефортовской тюрьмы с вещами и доставили на Лубянку. Он ожидал новых допросов или этапа, но его провели в кабинет генерала, который обратился к нему по имени-отчеству и поздоровался за руку, хотя и не назвал себя. Он объявил Рапопорту, что его дело прекращено и скоро он будет дома. После утомительных многочасовых процедур Рапопорта доставили домой на “Победе”. Сопровождал его полковник госбезопасности и молодой человек в штатском, которому доверили нести арестантский узелок.
Машина медленно свернула на Новопесчаную улицу, въехала через железные раскрытые ворота в знакомый двор и остановилась у знакомого крыльца. Мы втроем вышли из машины, двери подъезда не были заперты, было около трех часов ночи, но ночных лифтеров у нас не было. И мы вошли в вестибюль, где был телефон. Первый сигнал из моей квартиры на четвертом этаже подала моя собака, черный пудель – Топси. Это была необыкновенно ласковая, умная и эмоциональная сука. При каждом моем возвращении домой она встречала меня в передней, и я бывал жертвой ее бурного восторга и бурных ласк, сопровождавшихся как радостными визгами и стонами от прилива чувств, так и эмоциональной лужей на полу. Едва я вошел в подъезд и даже не успел подняться на первый этаж, как я услышал восторженный лай Топси, разбудивший мою жену… Но поздороваться с ней и обнять ее я смог только после того, как вырвался из объятий Топси и ее лобзаний и перешагнул через ее традиционную восторженную лужу.
Горнило, через которое прошел Чип Болен, не идет ни в какое сравнение с испытаниями, выпавшими на долю фигурантов дела врачей. Но и его история заслуживает внимания как иллюстрация царивших в Вашингтоне нравов. Второе слушание по утверждению назначения Болена состоялось 18 марта. Комитет Сената по международным делам единогласно проголосовал за утверждение. Но сенатор Маккарти не сдался. 23 марта на пленарном заседании палаты он заявил, что компромат, имеющийся у ФБР на Болена, так неприличен, что он не может огласить его публично. Лидер республиканского большинства Роберт Тафт прервал многочасовую дискуссию и на следующий день внес предложение: он и еще один сенатор-демократ ознакомятся с докладом ФБР и сообщат Сенату, имеются ли основания отклонить кандидатуру Болена. Болен подозревался в том, что он гей – убийственное по тем временам обвинение. Однако сведения, собранные ФБР, оказались вздором, о чем Тафт и объявил наутро. Назначение было утверждено 74 голосами против 13. Ради утверждения Болена администрация принесла в жертву его деверя (брата жены) Чарльза Тейера, который тоже работал в посольстве в Москве с Буллитом и известен русскоязычной публике по мемуарам “Медведи в икре”. Тейер тоже подозревался в гомосексуальных связях и значился в списке “коммунистов”, составленном Маккарти. В тот момент он работал американским консулом в Мюнхене. Его вызвали в Вашингтон и предложили написать прошение об отставке. Он это сделал.
Яков Этингер-старший не выдержал истязаний и умер в Лефортовской тюрьме за год и три дня до смерти Сталина. Его жену спешно освободили в октябре 1954 года, так как боялись, что она тоже умрет в камере. С Этингером-младшим вышло сложнее. Его вернули из лагеря на “доследование”.
Следователь не фиксировал больше внимания на моих высказываниях в отношении того, что маршал Тито не является никаким немецким шпионом. Следователь также особенно не распространялся о моих заявлениях о Сталине. Но по-прежнему обвинял меня в “клевете на национальную политику КПСС и советского государства”, выражавшуюся в том, что я “утверждал, что в СССР существует государственный антисемитизм”. Он заявил, что “ложью” являются мои высказывания, будто борьба против космополитизма была проявлением антисемитизма. Одновременно он снова поднял вопрос о сессии ВАСХНИЛ, отметив, что “критика академика Т.Д. Лысенко является клеветой на советскую науку”.
В итоге обвинение потребовало пять лет лишения свободы по статье об антисоветской пропаганде и агитации. Однако суд оправдал подсудимого за отсутствием состава преступления. Прокурор подал протест, но он был отклонен. Яков Яковлевич Этингер вышел на свободу в конце декабря 1954 года.
15 марта новый премьер Маленков произнес речь, содержавшую фразу: “В настоящее время нет такого спорного или нерешенного вопроса, который не мог бы быть разрешен мирным путем на основе взаимной договоренности заинтересованных стран”. В Вашингтоне ее сочли приглашением к диалогу. Эйзенхауэр ответил знаменитой речью “Шанс для мира“. Но холодная война только начиналась.
Смутное время начала 1953-го – отнюдь не седая старина. Во многом оно напоминает нынешнее. Так же, как и 70 лет назад, множатся слухи о тяжком недуге вождя. Клевреты за его спиной уже вступили в схватку за наследство. Режим сотрясают пароксизмы жестокости, смешанной со страхом и неуверенностью. Процветает самая дикая конспирология, только теперь Россию хотят погубить не евреи, а иноагенты и геи. И так же, как тогда, у Вашингтона нет плана действий на случай ухода со сцены первого лица.
Известный британский политолог Анатоль Ливен опубликовал полгода назад статью, в которой тоже проводит историческую параллель. Она называется “Катастрофа холодной войны, которой США могут на этот раз избежать”. “Сдерживание России – хорошая идея, – гласит подзаголовок. – Крестовый поход против нее – нет”. Ливен пишет:
Стратегия Кеннана – доктрина ограниченного и оборонительного сдерживания в Европе – была основана на глубоком понимании слабостей, свойственных советской системе: он надеялся, что, если советскую экспансию удастся сдержать, эта система в итоге рухнет сама собой.
Именно это, разумеется, в конце концов и произошло – однако уже после вмешательства Нитце, который попытался превратить сдерживание в более агрессивную политику, глобального масштаба и милитаризованную до зубов, накрыв все локальные конфликты мира зонтом холодной войны, что повлекло за собой разрушительный эффект.
И наконец, вывод:
Если Соединенные Штаты совершат неверный шаг и примут новую версию “отбрасывания” – не сдерживания России на востоке Украины, но ее полного поражения, – это спровоцирует беспорядки внутри страны и, возможно, смену режима, а это многократно повысит риск ядерной эскалации.
Цинично, но откровенно.
Источник: Владимир Абаринов, «Радио Свобода»




